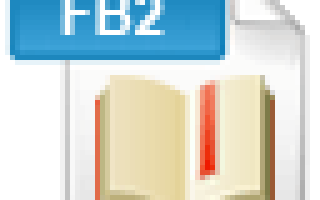Краткое содержание повести паустовского овраги. Далекие годы (Книга о жизни)
Дым отечества, Паустовский Константин Георгиевич
Краткое содержание, краткий пересказ
Краткое содержание романа
Получив от известного пушкиниста Швейцера приглашение приехать в Михайловское, ленинградский художник-реставратор Николай Генрихович Вермель отложил в Новгороде спешную работу над фресками Троицкой церкви и вместе со своим напарником и учеником Пахомовым отправился к Швейцеру, рывшемуся в фондах Михайловского музея в надежде найти неизвестные пушкинские стихи или документы.
В поездку пригласили и дочь квартирной хозяйки, актрису одесского театра, красавицу, приехавшую навестить дочь и стареющую мать.
Заснеженные аллеи, старый дом, интересное общество в Михайловском — все понравилось Татьяне Андреевне. Приятно было и обнаружить почитательниц своего таланта — одесских студенток. Был и совсем неожиданный сюрприз. Как-то войдя в одну из комнат, Татьяна Андреевна тихо ахнула и опустилась в кресло напротив портрета молодой красавицы. Все увидели, что их спутница совершенно схожа с ней. “Каролина Сабанская — моя прабабка”, — пояснила она. Прадед актрисы, некто Чирков, в год пребывания в Одессе Пушкина служил там в драгунском полку. Каролина блистала в обществе, и в нее был влюблен наш поэт, но она вышла за драгуна, и они расстались. Между прочим, сестра этой отчаянной авантюристки, графиня Ганская, во втором браке была женою Бальзака. Татьяна Андреевна припомнила, что у её киевского дядюшки сохранялся портрет Пушкина.
Швейцер был поражен. Он знал, что, расставаясь с Сабанской, поэт подарил ей свой портрет, на котором был изображен держащим лист с каким-то стихотворением, посвященным обворожительной полячке. Пушкинист решил ехать в Киев.
В украинской столице ему удалось отыскать дядюшку Татьяны Андреевны, но, увы, тот в один из кризисных моментов сбыл портрет одесскому антиквару Зильберу. В Одессе Швейцер выяснил, что антиквар подарил портрет племяннику, работавшему в ялтинском санатории для чахоточных больных: портрет не имел художественной ценности.
Прежде чем покинуть Одессу, Швейцер навестил Татьяну Андреевну. Она попросила взять его с собой в Ялту. Там, в туберкулезном санатории, умирал двадцатидвухлетний испанец Рамон Перейро. Он прибыл в Россию вместе с другими республиканцами, но не вынес климата и тяжело заболел. Они подружились и часто виделись. Как-то на загородной прогулке Рамон вдруг встал на колени перед ней и сказал, что любит её. Ей это показалось напыщенным и вообще неуместным (она была на десять лет старше него, и Маше шел уже восьмой год), она рассмеялась, а он вдруг вскочил и убежал. Татьяна Андреевна все время корила себя за этот смех, ведь для его соотечественников театральность — вторая натура.
В санатории ей сказали, что надежды нет, и позволили остаться. В палате она опустилась перед кроватью на колени. Рамон узнал её, и слезы скатились по его худому, почерневшему лицу.
Швейцер тем временем отыскал в санатории портрет и вызвал Вермеля. Реставрировать можно было только на месте. Приехал, однако, Пахомов, упросивший учителя послать именно его. Старику было очевидно, что у его Миши на юге есть и особый, помимо профессионального, интерес. Кое-что он заметил еще в Новгороде.
С помощью Пахомова удалось прочитать стихи, что держал в руках Пушкин. Это была строфа стихотворения: “Редеет облаков летучая гряда. ” Сенсации эта находка не содержала, но для Швейцера было важно прикоснуться к жизни поэта. Пахомов был рад вновь увидеться с Татьяной Андреевной. Он ни разу не сказал ей о любви, и она тоже молчала, но весной 1941 г. перебралась в Кронштадт — поближе к Новгороду и Ленинграду.
Война застала её на острове Эзель, в составе выездной бригады театра Балтфлота. С началом боев актриса стала санитаркой и была эвакуирована перед самым падением героического острова. Далее путь лежал на Тихвин. Но самолет вынужден был совершить посадку недалеко от Михайловского, в расположении партизанского отряда.
Пока чинили перебитый бензопровод, Татьяна Андреевна с провожатым отправилась в Михайловское. Она еще не знала, что Швейцер остался здесь, чтобы охранять зарытые им музейные ценности и спрятанный отдельно от них портрет Сабанской. Татьяна Андреевна нашла его случайно, не совсем здоровым душевно. На рассвете самолет унес их на Большую землю.
В Ленинграде они отыскали Вермеля и Машу: Николай Генрихович с началом войны ринулся в Новгород. Ему удалось упаковать и переправить музейные ценности в Кострому, но самому пришлось остаться с Машей и Варварой Гавриловной — матерью Татьяны Андреевны — в Новгороде. Втроем они пешком попытались выйти из оккупированного города, но пожилая женщина погибла.
От Пахомова не было вестей с момента его ухода в армию. Он отправился на юг, работал во фронтовой газете, был ранен во время отражения немецкого десанта. Все время тосковал по Татьяне Андреевне. Госпиталь его постоянно переезжал — линия фронта катилась к Волге.
В Ленинграде становилось все труднее. Татьяна Андреевна настояла, чтобы Вермель, Швейцер и Маша уехали в Сибирь. Сама она должна была остаться в театре. Она оказалась совсем одна, часто ночевала в костюмерной, где было теплее, чем дома, наедине с портретом Сабанской, рождавшим мысли, что после смерти от нее самой не останется ни глаз, ни бровей, ни улыбки. Как хорошо, что в старину писали портреты.
Но вот однажды, прижавшись лбом к окну, она увидела на пустынной улице человека в шинели, с рукой на перевязи. Это был Миша Пахомов. После прорыва блокады в Ленинград вернулись и уехавшие в эвакуацию. Жизнь налаживалась. Вермель с Пахомовым рвались восстанавливать разрушенные памятники Петергофа, Новгорода, Пушкина, Павловска, чтобы уже через несколько лет людям и в голову не могло прийти, что по этой земле прошли фашистские полчища.
Константин Паустовский – Далекие годы (Книга о жизни)
Описание книги “Далекие годы (Книга о жизни)”
Описание и краткое содержание “Далекие годы (Книга о жизни)” читать бесплатно онлайн.
Далекие годы (Книга о жизни)
Книга о жизни. Далекие годы
Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:
“Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное. Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве”.
Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.
Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это – простой и неопровержимый закон.
В книге помещено шесть автобиографических повестей:
“Далекие годы”, “Беспокойная юность”, “Начало неведомого века”, “Время больших ожиданий”, “Бросок на юг” и “Книга скитаний”. Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.
Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.
По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.
Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать – неизвестно.
Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.
Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.
Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет,- чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.
На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.
Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.
Феоктистов рассказал мне, что ночью прошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина гребля.
Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула извозчик.
Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.
– Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика,- решил наконец Феоктистов.- Ему сам черт не брат.
Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами “Нивы” в тисненных золотом переплетах, вошел извозчик Брегман – “самый отпетый старик” в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.
– Ой, несчастье! – сказал он наконец фальцетом.- Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в “Киевской мысли”. Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца,- я не побожусь, что пять или, положим, десять.
– Спасибо, Брегман,- сказал Феоктистов.- Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу “Ниву” до конца года.
– Ну, уж если я такой храбрый,- пропищал, усмехаясь, Брегман,- так вы мне лучше выпишите “Русский инвалид”. Там я по крайности почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.
В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: “Привези из Белой Церкви священника или Ксендза – все равно кого, лишь бы согласился ехать”.
Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.
Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.
Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке “Кобзарь” Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече “Катерину” и поминутно вытирала темным платком глаза.
Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, “малесенького хлопчика”, умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, “незаконным” ее сыном.
Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.
Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.
На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа. В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.
Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не “но”, а “вье!”. Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.
В дыму дождя подымались, казалось – до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалю. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.
– Эти сады очень любил Мицкевич,- сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.
Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.
В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.
Мы часто переезжали из города в город – из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.
Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.
Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.
Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.
Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.
– Гребля! – сказал он упавшим голосом.- Теперь молитесь богу, пассажиры!
Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.
Константин Паустовский – Далекие годы (Книга о жизни)
Константин Паустовский – Далекие годы (Книга о жизни) краткое содержание
Далекие годы (Книга о жизни) читать онлайн бесплатно
Далекие годы (Книга о жизни)
Книга о жизни. Далекие годы
Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:
“Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное. Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве”.
Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.
Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это – простой и неопровержимый закон.
В книге помещено шесть автобиографических повестей:
“Далекие годы”, “Беспокойная юность”, “Начало неведомого века”, “Время больших ожиданий”, “Бросок на юг” и “Книга скитаний”. Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.
Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.
По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.
Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать – неизвестно.
Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.
Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.
Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет,- чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.
На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.
Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.
Феоктистов рассказал мне, что ночью прошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина гребля.
Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула извозчик.
Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.
– Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика,- решил наконец Феоктистов.- Ему сам черт не брат.
Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами “Нивы” в тисненных золотом переплетах, вошел извозчик Брегман – “самый отпетый старик” в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.
– Ой, несчастье! – сказал он наконец фальцетом.- Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в “Киевской мысли”. Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца,- я не побожусь, что пять или, положим, десять.
– Спасибо, Брегман,- сказал Феоктистов.- Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу “Ниву” до конца года.
– Ну, уж если я такой храбрый,- пропищал, усмехаясь, Брегман,- так вы мне лучше выпишите “Русский инвалид”. Там я по крайности почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.
В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: “Привези из Белой Церкви священника или Ксендза – все равно кого, лишь бы согласился ехать”.
Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.
Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.
Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке “Кобзарь” Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече “Катерину” и поминутно вытирала темным платком глаза.
Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, “малесенького хлопчика”, умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, “незаконным” ее сыном.
Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.
Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.
На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа. В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.
Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не “но”, а “вье!”. Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.
В дыму дождя подымались, казалось – до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалю. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.
– Эти сады очень любил Мицкевич,- сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.
Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.
В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.
Мы часто переезжали из города в город – из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.
Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.
Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.
Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.
Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.
– Гребля! – сказал он упавшим голосом.- Теперь молитесь богу, пассажиры!
Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.
Источники:
http://www.ukrlib.com.ua/kratko-zl/printout.php?id=389&bookid=4
http://www.libfox.ru/41854-konstantin-paustovskiy-dalekie-gody-kniga-o-zhizni.html
http://mybrary.ru/books/proza/prose-rus-classic/162121-konstantin-paustovskii-dalekie-gody-kniga-o-zhizni.html